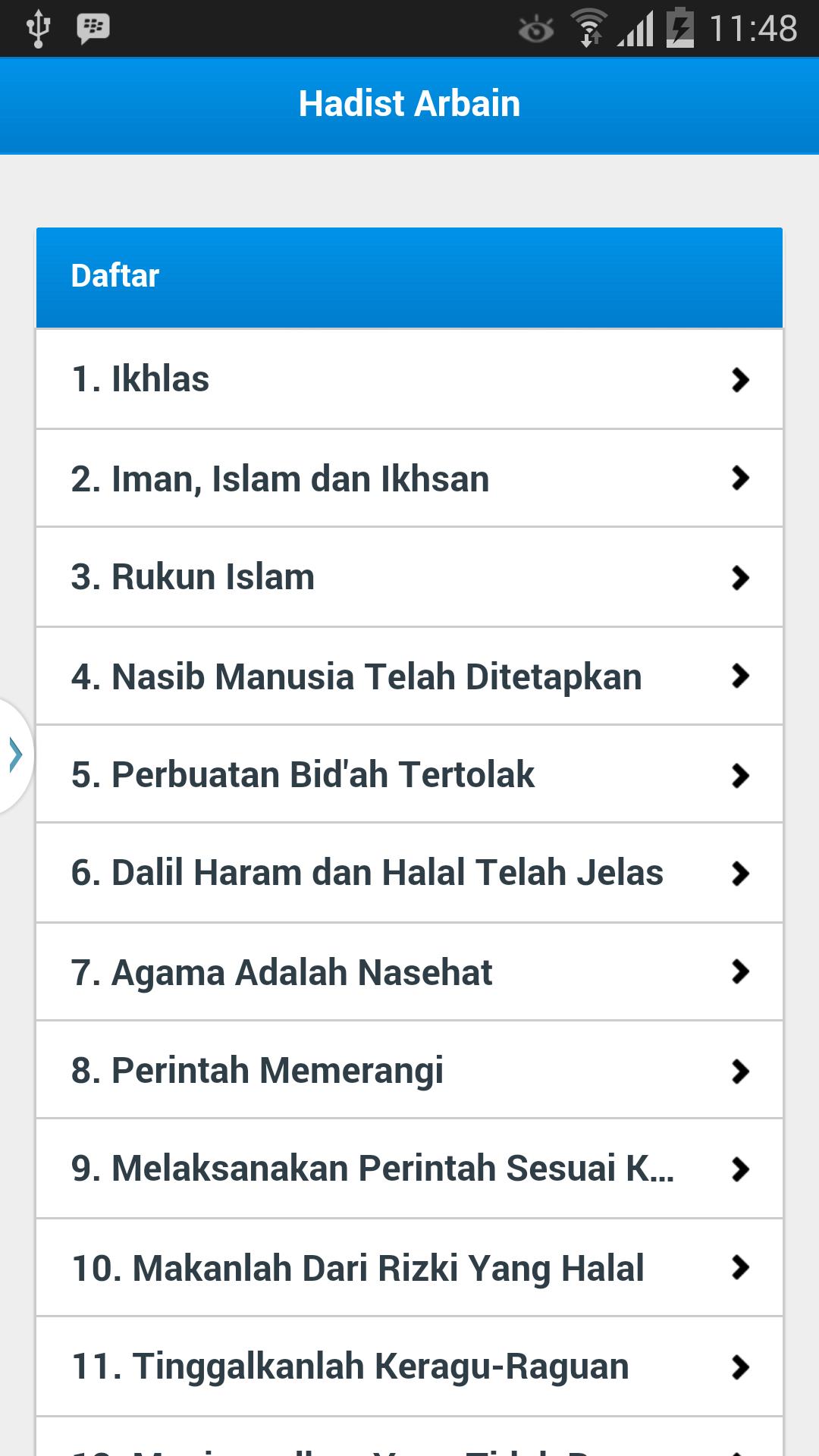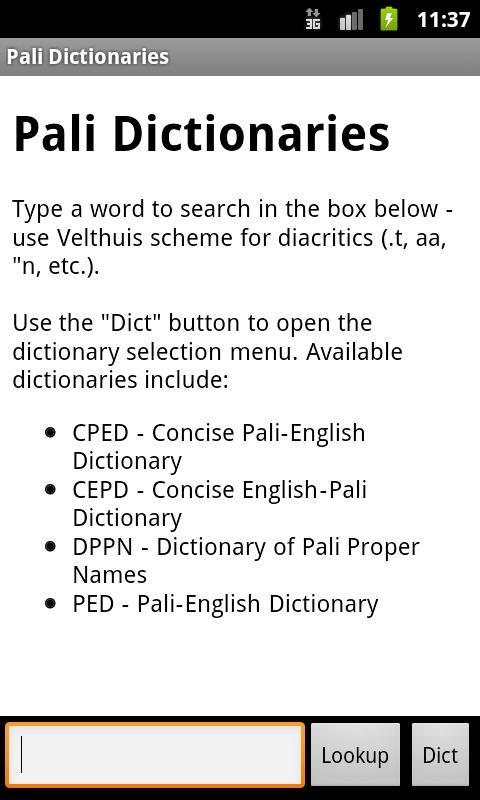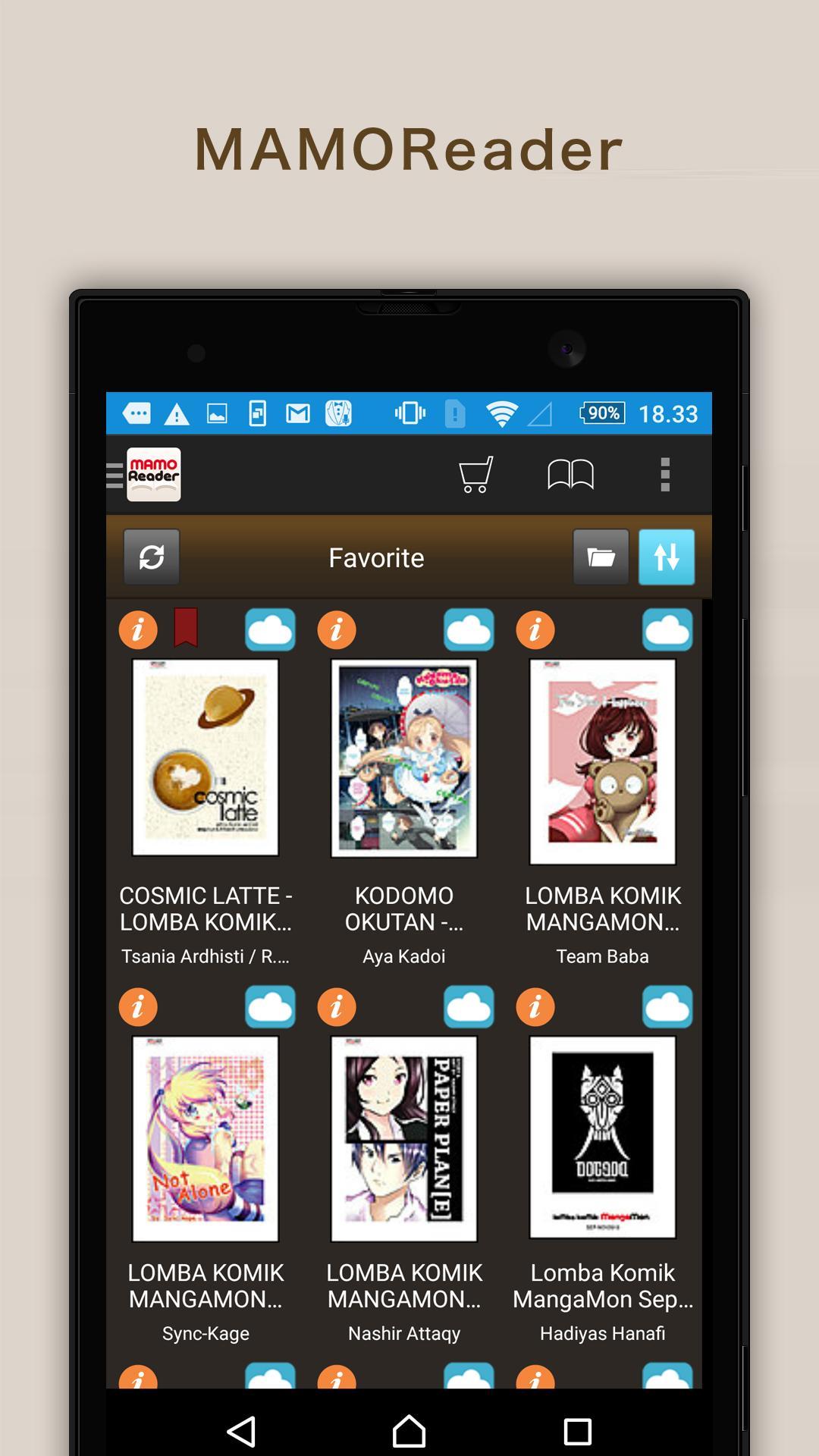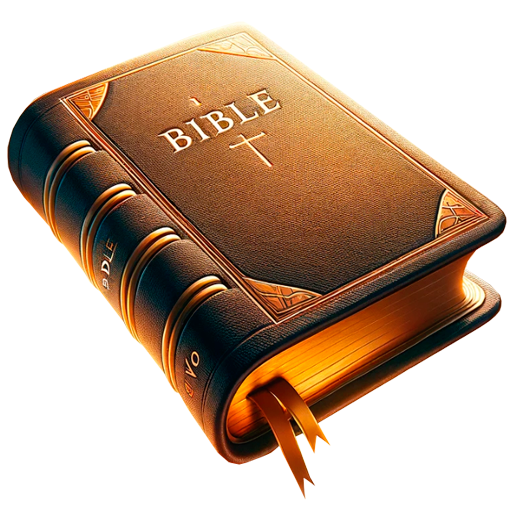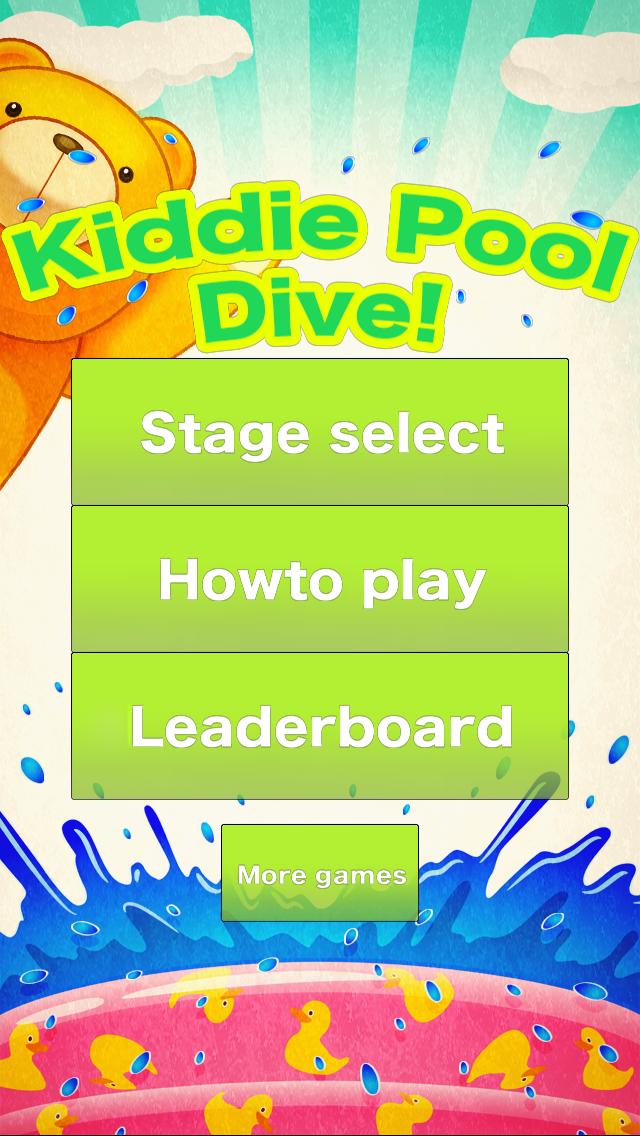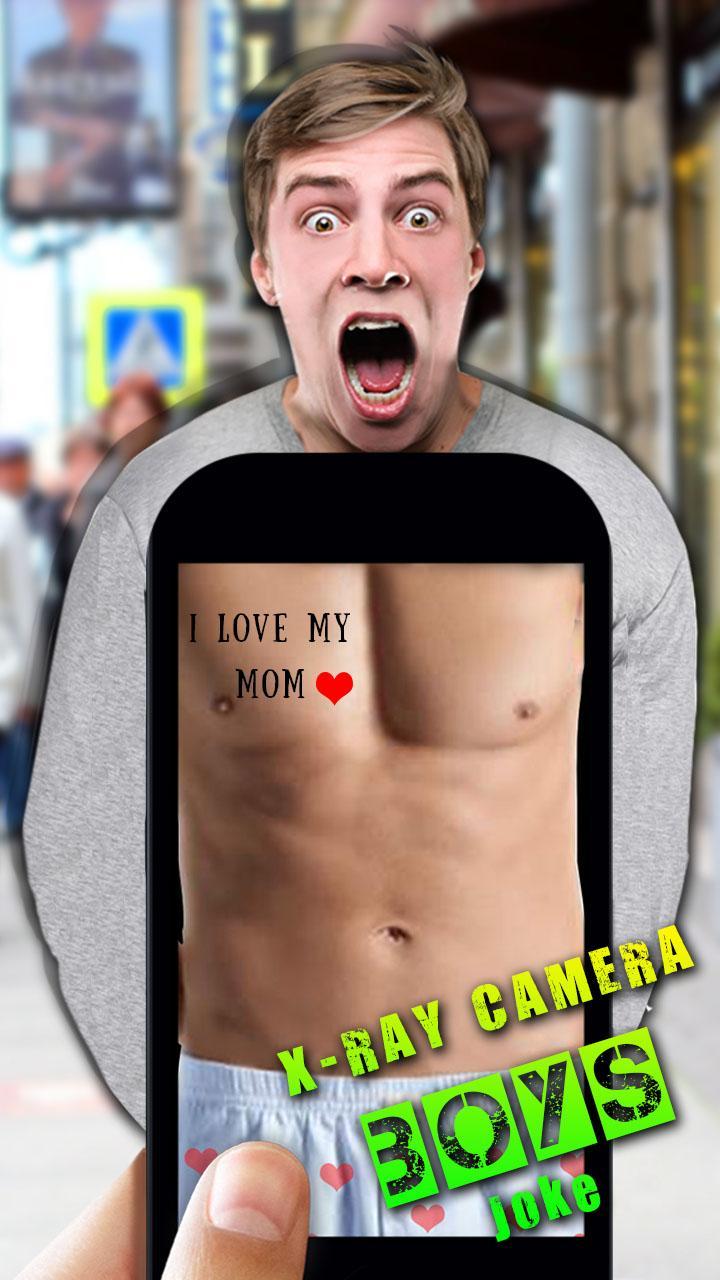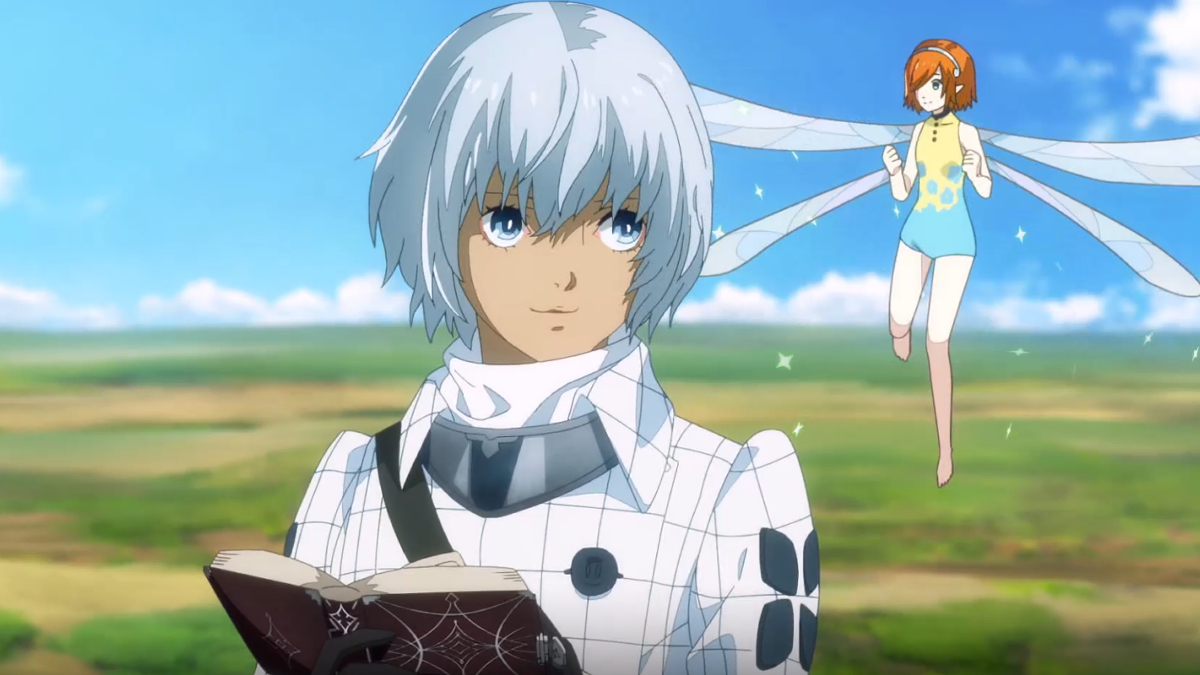Следует говорить только там, где нельзя молчать, и говорить только о том, что победил - все остальное - все это болтовня, «литература», плохое размножение. Мои сочинения говорят только о моих завоеваниях: «Я» в них, со всем, что мне враждебно, эго Ипсисимус или, если разрешено более надменное выражение, эго ипсисимум. Можно догадаться, что у меня есть много ниже меня ... но сначала мне всегда нужно было время, выздоровление, расстояние, разделение, прежде чем я почувствовал, как я почувствовал, как желание слюнать, разбавлять, обнажить, «представлять» (или что -то, что кто -то любит его называть) за дополнительное знание мира, то, что я пережил и пережил, что -то сделано или пострадало. Отсюда и все мои писания,-с одним исключением, важно, это правда,-не будьте намерены-они всегда рассказывают о «после-меня». Некоторые даже, как и первые три мысли вне сезона, должны быть отброшены до периода создания и опыта опубликованной книги (рождение трагедии по указанному делу, поскольку любой, у кого есть тонкие полномочия наблюдения и сравнения, не мог не воспринимать). Этот гнев в результате германизма, самодовольства и рваной речи старого Дэвида Штрауса, содержимого [PG 002] первой мысли вне сезона, дало представление о чувствах, которые вдохновили меня задолго, будучи студентом, в середине немецкой культуры и культивировали филистинизм (я утверждал о отцовстве, теперь широко используемой и злонамеренной «культурной филистинизме»). То, что я сказал против «исторической болезни», я сказал, как тот, кто медленно и кропотливо оправился от этой болезни, и который вообще не был расположен в отказе от «истории» в будущем, потому что он страдал от нее в прошлом. Когда в третьей мысли вне сезона я выражал свое почтение к своему первому и единственному учителю, величественному Артуру Шопенгауэру - теперь я должен дать ему гораздо более личный и решительный голос - я уже был за свою часть в муках морального скептицизма и роспуска, то есть так же озабоченной критикой, как и в изучении всего пессимизма до нынешнего дня. Я уже не верил в «блаженную вещь», как говорят люди, даже в Шопенгауэре. Именно в этот самый период появилось мое неопубликованное эссе, «об истине и лжи в вне морального смысла». Даже моя церемониальная речь в честь Ричарда Вагнера, по случаю его триумфального празднования в Байроуте в 1876 году-BayReuth означает величайший триумф, который когда-либо выиграл художник-работа, которая имеет самую сильную марку «индивидуальности», был на фоне поступки дома выход и прощание. (Ричард Вагнер ошибся в этом вопросе? Я так не думаю. Пока мы все еще любим, мы не рисуем такие картинки, [PG 003] мы еще не «исследуем», мы не ставим себя так далеко, как это необходимо для того, кто «осматривает». «Исследование, по крайней мере, секретный антагонизм, с точки зрения противоположной точки зрения», на странице 46, с надписью, с самого нами, с самого неозора, сама по себе, что само по себе, как сама по себе, сама по себе, что сама на странице. Возможно, было понято немногим.) Самообладание, которое дало мне возможность говорить после многих промежуточных лет одиночества и воздержания, сначала пришла с книгой «Человек, слишком человеческий», которому посвящены это второе предисловие и апологея1. В качестве книги для «свободного духа» это показывает некоторую следование того, что почти веселая и любознательная холода психолога, у которого есть много болезненных вещей, которые он держит под ним, и, кроме того, устанавливает их для себя и крепко зафиксирует их, как с игольчатой. Должны ли это быть удивленно интересно в таких острых, щекотливых работающих крови к крови время от времени, что у психолога есть кровь на пальцах, а не только на пальцах?